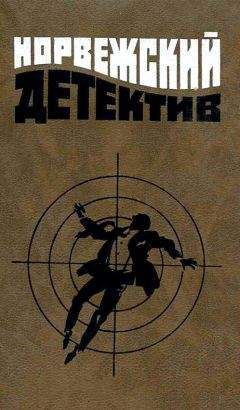Андре Бьёрке - Паршивая овца [Мертвецы выходят на берег.Министр и смерть. Паршивая овца]
Два года назад Ева потребовала от меня большую сумму, чтобы купить „усадьбу и обосноваться в деревне“. В отчаянной попытке освободиться от нее я дал деньги. Под давлением постоянных требований даже мое, прежде такое солидное, состояние теперь стало быстро таять. И, только обнаружив, что купленная „усадьба“ оказалась ничем иным, как виллой местного аптекаря, и уяснив, что у меня отбирают последнее прибежище, я начал проигрывать в уме варианты избавления от нее.
Вначале это была только игра. Волнующая и интересная игра фантазии. Своего рода отдушина, к которой я прибегал, когда давление с ее стороны становилось невыносимым и я начинал ощущать, как разъедает меня изнутри горячая ненависть. Признаться, я всегда испытываю чувство радости, даже, может быть, всемогущества, когда медленно, терпеливо, тщательно подготавливая какой-нибудь план, потом успешно реализую его. Неважно, касается ли это хирургической операции, обустройства сада или… убийства! И вот прошлым летом игра пошла всерьез… и я попытался убить ее.
Этим летом положение стало совсем невыносимым. Она искала встречи со мной каждый день. Последний раз это случилось во второй половине дня перед тем, как я убил ее. Я и прежде терял самообладание и угрожал ей — боюсь, это происходило несколько раз на виду у всех в клинике. Но в эту среду я совсем потерял голову — настолько наглыми и безмозглыми были ее вечные обвинения. Я тут же на месте хотел прикончить ее тяжелым подсвечником…
…Теперь я хотел бы сказать, что сожалею о том, что сделал. Я жалею, что убил Беату Юлленстедт. Единственно, что утешает: она умерла быстро и избавилась от бессмысленных мучений в течение нескольких месяцев. И я жалею, что убил Еву. Но не из-за нее самой, ее мне не жаль, а из-за себя. Когда она лежала там, в спальне, мне казалось, ее открытый рот кривится в усмешке… Словно она и сейчас знает, что даже мертвая она способна превратить мою жизнь в сущий ад».
В постскриптуме Хаммарстрем объяснял, что, доверив бумаге свои мысли и чувства, он ощутил облегчение. Он даже засомневался, стоит ли ему делать тот последний шаг? Может, есть еще надежда?.. Но он не порвет письмо, он не знает, будут ли у него силы или возможности написать его еще раз. Но он не оставит письмо дома. В состоянии крайнего замешательства и переутомления, в каком он находится, лучший выход послать признание вместе с вещественными доказательствами самому себе по почте. Если он останется жив, он сам получит пакет, а если нет, пакет получит полиция, и истина все равно станет известной даже после его смерти, чего он и желает…
Крепкий молодой человек в клубном пиджаке придвинулся к Хаммарстрему вплотную и не спускал с него глаз.
Я услышал, как во двор дачи въезжают полицейские автомашины.
30
Поздним вечером в конце августа, когда я снова благополучно водворился в моей квартире на улице Бастугатан, мне позвонил Министр. Он был сильно взволнован.
— Алло! Ты не спишь?
Я ответил ему, что нет, что уже не сплю.
— Я буду отцом! Поздравь меня, она только что сказала! Я буду отцом!
Я взглянул на часы, вздохнул и подумал, что нет, никогда, видимо, не переведутся на свете люди с непритупленной реакцией на вечное чудо жизни. Сотворив уже не одно дитя, он по-прежнему каждый раз выражал все то же удивление и без проволочек спешил разнести радостную весть среди родных и знакомых.
— Я очень рад. Четырнадцать детей это все-таки… все-таки…
— Мало?
— Нет, не мало, но как-то незавершенно… число не круглое!
— Теперь они разрешат мне строиться там, на острове!
Я тут же решил защитить свои интересы.
— Твой покорный слуга надеется, что ты улучшишь санитарное состояние дачи?
— Санитарное состояние? А… ты прав! Я перестрою туалет. Сделаю его трехочковым. Этим я займусь сам. А ты пока будешь ходить к Хюго, он заново строит свой…
С испорченным настроением я пожелал ему доброй ночи и повесил трубку.
Проснувшись наутро, я включил радио, чтобы прослушать прогноз погоды, но вместо прогноза наткнулся на повтор новостей. «…Министр внутренних дел сообщил, что вносит на осеннюю сессию риксдага законопроект, предусматривающий значительное уменьшение участков, обслуживаемых муниципальными врачами, а также улучшение условий работы последних в том, что касается…»
Я взял свою любимую газету, читать которую для меня все равно что открывать только что пришедшее письмо от друга. Передовая статья была посвящена новому предложению Министра: «…буржуазные партии не раз предлагали многократное сокращение участков, обслуживаемых врачами. То, что министр внутренних дел наконец-то внял голосу разума, нельзя воспринимать иначе, как с чувством глубокого удовлетворения. Это еще раз доказывает, что неустанные усилия оппозиции далеко не напрасны. Если все время бить в одну точку, рано или поздно, но мы желаемого добиваемся…»
Да, добиваемся. Но лучше всего бить один раз, наносить один, но точный и сильный удар. В челюсть!
В 14.30 меня принимал мой кардиолог. По дороге к нему я купил «Еженедельный журнал». С обложки его улыбался Министр — рот до ушей, — а на развороте посередине поместилась вся его многочисленная семья. Сестра Маргарета была закутана в вышитую золотом парчу, а Министр красовался в строгом фрака со Звездой Севера на груди и меньшеньким на руках.
«Ну вот, — подумал я, — вот он уже и готов — идеальный министр нового буржуазного правительства. В конце концов, нужен же им кто-то, знающий, как вертится вся эта машина, они так давно не были у власти».
Доктор снял кардиограмму и внимательно послушал мне грудь. Освободившись от трубок, он удивленно взглянул на меня.
— Адъюнкт, ваши дела сейчас гораздо лучше, чем были весной! Вы где-то отдыхали? Насколько я понимаю, вы следовали моим предписаниям: отдых, никаких волнений, только покой, полный покой в кресле-качалке с какой-нибудь хорошей, но не слишком захватывающей книгой? Или вы, адъюнкт, изобрели новое чудодейственное средство?
Я вспомнил алый, как кровь, малиновый сок, ночные прогулки по непролазному лесу, аршинные заголовки в газетах и убийства по вечерам, тайник под кроватью и, Бог мой, я снова, снова едва не впал в мелодраматизм, как в тот вечер, когда убили Еву Идберг!
Я наклонился к нему и прошептал, прошептал нарочито громко, чтобы услышала медсестра:
— Убийство, доктор, убийство!
А потом вышел на залитую солнцем набережную Норр Маларстранд и почувствовал себя по-настоящему бодрым и здоровым. Я помахивал тростью, улыбаясь смотрел на всех этих длинноволосых юнцов, которых, слава Богу, не имею теперь счастья учить, и думал: «Нет, действительно, одно убийство в году, это не так уж плохо!»